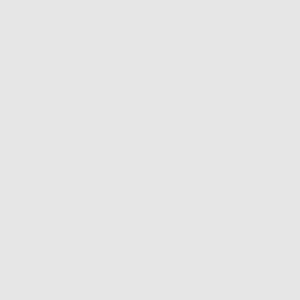
Судьба религии в "Технотронную эру"
Научная фантастика редко касается вопросов религии, тем самым как бы говоря о том, что в будущем наука вытеснит наши "иллюзии". Наука объясняет мир, не привлекая "гипотезы Бога", а технологии избавляют от тягостной зависимости от природы. Именно поэтому технократы склонны рассматривать религию в качестве вырождающегося реликта культуры. Насколько обоснованы подобные надежды? Я бы хотел рассмотреть этот вопрос на примере комментария к одному рассказу-«сказке» умершего в 2006 году польского фантаста Станислава Лема.
Лем известен не только как писатель, но также как философ и футуролог. В этом смысле особый интерес представляет его книга "Сумма технологии" (1968). Само данное сочетание, очевидно, есть парафраз названия фундаментального труда теолога Фомы Аквинского "Сумма теологии". Станислав Лем, однако, признавался, что вообще не читал Аквината.
Книга Лема также стала попыткой философского осмысления результатов целого отрезка истории человечества, на этот раз связанного со "второй природой" - суммой научного и технического знания, его влияния на общество и сознание человека. Этой же теме посвящена одна из последних книг фантаста - "Мегабитовая бомба", вызвавшая множество споров.
В интервью польскому журналу "Фантастика" Станислав Лем сообщил, что, создавая свои ранние "коммунистические утопии", скажем, романы "Астронавты" и "Магелланово облако", он свято верил в могущество науки, в ее способность найти эффективное противоядие любой беде. С тех пор прошло много лет, его отношение к возможностям науки претерпело изменения:
"Оказалось, что множеством явлений мы не в состоянии овладеть, а множеством других не овладеем потому, что это побочные результаты нашей сознательной деятельности".
Лем написал множество книг в самых разных жанрах, в том числе за пределами научной фантастики и художественной литературы как таковой. Помимо "Суммы технологии" это книга "Диалоги" (1957) - размышление о судьбах кибернетики, двухтомный труд "Фантастика и футурология" (1970), посвященный проблеме прогностической функции фантастики, "Философия случая" (1968) - анализ проблем литературного процесса и роли средств массовой коммуникации при общении с читателем, а кроме того - рецензии на несуществующие научные трактаты (!), а также речи мнимых лауреатов Нобелевской премии (!) и еще кое что.
В интервью, взятом у "пана Станислава" редактором нашего журнала "Компьютерра" Евгением Коэловским, сообщается, что его стол и сегодня завален такими научными и научно-популярными журналами как "Science", "Nature" и "New Scientist". Ранее он регулярно читал также нашу "Природу", сегодня – не читает, не хватает времени. Его и сегодня особо волнует тема возможностей компьютеров, а также космология и "космобиология".
Влияние на Станислава Лема научно-популярной литературы, судя по интервью, очень велико. Один из симптомов – серьезное отношение фантаста к гипотезе столкновения Земли с астероидом, а также серьезная ссылка на фильм "Парк юрского периода" Стивена Спилберга. Его по-прежнему поражают некоторые технические и научные новинки, скажем, цифровой фотоаппарат, которым пользуется его внучка, а из глобальных научных событий – расшифровка генома человека. Есть, однако, и разочарования, это, скажем, провал надежд на "контакт" - дружеских бесед и обмена знаниями с иными цивилизациями. В "Сумме технологии" подобные надежды проглядывают.
Станислав Лем - крупный, неординарный фантаст. И все же, несмотря на свои более чем многочисленные литературные эксперименты, он по-прежнему любит классическую "твердую фантастику", тесно связанную с проблемами науки. Лем остался за пределами "новой волны", "киберпанка" и других новшеств в западной фантастике. Сообщается все это не для того, чтобы как-то принизить фантаста, при всем желании сделать это будет очень трудно, просто хотелось бы отчасти обозначить его координаты в пестром, разношерстном мире фантастики.
Однажды, вероятно, в приступе раздражения он назвал Филлипа Дика единственным американским фантастом, заслуживающим внимания. Между тем Дик, автор своеобразной психоделической фантастики очень далек от проблем фантастики "твердой". Думается, на самом деле неравнодушен он к творчеству множества авторов, в том числе американских.
При этом Лем, увы, не любит жанр фэнтези и особенно победоносное шествие книг про "этого самого" Гарри Поттера. Станислав Лем, кажется, оценивает подобную литературу не только в качестве поп-фантастики, но также признака сохранившейся инфантильности человечества. Он вполне соглашается с редактором журнала "Компьютерра" - давление техносферы очень велико и Гарри Поттер, конечно, симптом, по мнению Лема - это "сигнал того, что детям не очень нравится наш мир. И они хотят другого. С волшебниками. Но, к сожалению, это - не очень реально".
Заметим также, "технолюбие" Станислава Лема имеет некоторые биографическими предпосылки. После окончания медицинского факультета, он занимался историей и методологией науки. Более того, он даже стал на какое-то время научным работником и даже рецензировал науковедческие статьи в научно-популярном журнале "Жизнь науки".
Если же вновь обратиться к его книгам, стоит упомянуть редкую антиутопию в его литературном багаже - роман "Возвращение со звезд" (1967). К числу антиутопий можно отнести также романы "Эдем" (1959) и "Дневник, найденный в ванне" (1961). Это, кажется, все. Без подобных книг не всегда обходятся даже оптимисты, непоколебимо верящие в прогресс. Что же касается Лема, он к числу слепых оптимистов явно не относился.
Добавим ко всему этому лишь одно - несмотря на любовь к "технологиям", киберам и компьютерам, большую часть своих книг он написал на довольно изношенной пишущей немецкой машинке. Сейчас он диктует свои книги секретарю, игнорируя компьютер, а перемещается на престарелом "Мерседесе". Так утверждает в интервью сам "пан Станислав".
Станислав Лем, судя по всему, не принял никакого участия в антикоммунистическом бунте, предпринятом профсоюзом "Солидарность". Его книги регулярно издавались у нас и в период правления Ярузельского. Евгению Козловскому, редактору журнала "Компьютерра", Лем признается, что рынок, капитализм его "всегда раздражал". После своих ранних утопических романов он, вероятно, просто пришел к пониманию невозможности утопии как способа существования реальных людей, но это вовсе не была капитуляция перед сомнительным и всесильным рынком.
Думается, отношение Станислава Лема к властям Польши было очень скептичным. В этом отношении его, быть может, уместно сравнить с братьями Стругацкими, написавшими когда-то свою "красную утопию" – "Полдень XXXI век", а затем все же "Сказку о тройке". Лем своей "Сказки о тройке" не написал, может быть лишь потому, что его волновали скорее научно-философские, чем чисто социальные проблемы.
В связи с проблематикой книг Станислава Лема некоторые критики пытались противопоставить "технолюба" Лема "технофобу" Рзю Брэдбери. Но едва ли вообще стоит пытаться делать их оппонентами. Это два больших писателя, они заведомо не совпадают по своим оценками. И все же как и Брэдбери Лема интересует скорее душа человека, чем собственно техника. Тем не менее в отдельных моментах подобное противопоставление может оказаться уместным. Брэдбери был религиозен, что же касается Лема, его отношение к религии – это вообще особый вопрос. В "Сумме технологии" есть места очень скептично оценивающие "мистику" и откровенно прославляющие науку. Приведу всего лишь одно из них:
"При всем содеянном эле именно наука вызволила значительную часть человечества из голодного существования, тогда как фундаментом всех религиозных систем азиатского образца является именно равнодушие - столь же возвышенное, сколь катастрофическое по своим последствиям".
Думается, правильно будет причислить его к неопределенному в границах племени "гуманистов", считать его литературным философом, надеющимся на доброе начало в человеке. В интервью журналу "Компьютерра" Станислав Лем без всяких виляний назвал себя атеистом, а Католическую Церковь – "не буду скрывать" – антидемократической структурой, невежливо сравнив ее с коммунистической партией.
На вопрос о своем отношении к известной книге Пьера Тейяр де Шардена "Феномен человека" Станислав Лем раздраженно сообщил – "я никогда не читаю теологов", хотя называть Тейяра де Шардена только теологом невозможно. Едва ли Лем не слышал того, что этот человек был также палеоантропологом, одним из открывателей синантропа. Возможно это опять симптом - Лем не переносит даже необычные, в духе Тейяра де Шардена попытки совместить науку и религию. Из интервью также следует - штудирует Лем вовсе не современных философов постмодернизма, скажем, Ролана Барта, а давно умершего атеиста Бертрана Рассела, а кроме того агностика Карла Поппера.
Будет ли уместным и возможным обсуждение творчества Станислава Лемма в контексте проблем религии? По причине всего сообщенного выше такие сомнения смотрятся более чем оправданными.
Добавим ко всему этому также то, что Станислав Лем однажды назвал попытки обращения научной фантастики к теме религии "литературным инцестом" - то есть кровосмешением, чем-то явно противоестественным. Тем не менее, "пан Станислав" сам замечен в подобных связях - он рискнул коснуться проблем религии в том числе в очень редком для фантастов жанре юмористической научно-фантастической сказки.
Однако прежде, чем перейти собственно к "сказке", хочется ознакомить читателя с оценкой юмора Лемма, сделанной замечательным американским фантастом - Куртом Воннегутом. Высказывание это я обнаружил на обратной обложке "Сказок роботов" Станислава Лема, изданных у нас впервые отдельным томиком в 1993 году. Оно гласит:
"Мастер Лем, неизлечимый пессимист, с ужасом наблюдает: что же еще способно выкинуть безумное человечество?.. От долгого общения с безнадежностью он так устает, что его разбирает хохот".
Получилось почти как у Гоголя - невидимые миру слезы писателя сквозь его видимый всем смех. Можно, конечно, посомневаться в том, что "мастер Лем" такой уж "неизлечимый пессимист", его книги не настолько мрачны, как некоторые романы самого Воннегута. Можно также посомневаться и в мотивах юмора Лема - не выписывает ли Воннегут здесь самого себя? Его не раз относили к американской школе "черного юмора". Пусть, однако, сам читатель решает насколько мрачны в своей глубине или, может быть, просто юмористичны научно-фантастические "сказки" Станислава Лема. Лучше перескажем одну "сказку", имеющую прямое отношение к проблемам религии.
Помимо "Сказок роботов" Станиславу Лему принадлежит также другой сборник - "Звездные дневники Ийона Тихого", своего рода россказни космического Мюнхгаузена. И для нас здесь представляет особый интерес двадцать первое путешествие героя.
Пересказать это "путешествие" Ийона Тихого не прибегая к обильному цитированию очень трудно - исчезает трудно передаваемый, даже избыточный юмор, а также игра фантазии свойственные вообще "Звездным дневникам", а поэтому предупредим - наш пересказ будет заведомо ущербным.
В "сказке" описывается попадание легендарного Ийона Тихого на планету под названием Дихтония. Рискнув поставить стопу на ее поверхность, Ийон чуть было не стал жертвой произрастающей на поле… хищной мебели, к счастью герой был быстро схвачен некими существами и унесен куда-то в подземелье. Существа, спасшие его, оказались монахами "ордена деструкцианцев". Появиться вновь на поверхности Ийону Тихому оказалось совершенно невозможным делом - по причине "нецензурности" его облика, от которой не спасла бы даже некая "нетрешка с пиндалом с присоской". В результате пришлось знакомиться с тем, что произошло на Дихтонии из малогабаритной кельи, предоставленной монахами и расположенной в катакомбах.
В конце концов обнаружилось, что орден монахов на самом деле есть… сообщество роботов, существующее на задворках непонятного, запутанного, жутковатого и одновременно комичного мира. Орден монахов-роботов, кажется, гоним, по крайней мере он скрывается от властей на поверхности, хотя последние осведомлены о существовании ордена. Возможно, его просто терпят – из презрения или, может быть, по причине наличия других дел. К счастью, у монахов была обширная библиотека, а отец-настоятель был склонен к очень пространным беседам, поэтому Ийон Тихий в общих чертах понял, что произошло когда-то на поверхности планеты.
Оказалось, что многие века на Дихтонии как и на Земле господствовала вера в Бога, религия под названием "дуизм". Однако в отличие от землян дихтонцы были озабочены не только "передней", но также "задней смертью" человека, то есть возможностью несуществования души до момента зачатия. Богословы ордена деструкцианцев "хватались за головокрышки" от удивления, узнавая, что людей и земную Церковь совершенно не заботит такая жуткая экзистенциальная проблема как "задняя смерть". "Они не могли взять в толк, почему это людям огорчительно думать о том, что когда-нибудь их не будет, и в то же время их вовсе не огорчает, что прежде их никогда не было". Может быть, именно по причине страха перед пропастью небытия, простирающейся по обе стороны отрезка существования человека, религию на Дихтонии называли "дуизмом". Догматический каркас дуизма относительно беспроблемно существовал, до тех пор пока не грянули две "биотические революции", вызванные рождением новых технологий. Одни технологии давали возможность глубокой манипуляции телом, другие – духом и сознанием.
Распространилось клонирование - своего рода "биотехника непорочного зачатия". Стало возможным вынашивание плода вне матки – "эктогенез", а также иные диковинные манипуляции с телом. Дело дошло значительно дальше изготовления вставных челюстей и силиконовых протезов. Место пластической хирургии заняло очень глубокое внедрение в геном человека. Оказалось возможным вообще менять направление онтогенеза – процесса индивидуального развития, скажем, делать из человеческого эмбриона обезьяну и другие подобные ужасы.
Некоторые девушки стали выращивать губки сердечком, юноши обзавелись бородами не только спереди, но также по бокам и сзади, а также украсили себя двойной зубастостью, вообще возникла мода на разнообразные "телесные изыски". Появились экзотичные движения по изменению тела, например, "разливанцы", пытавшиеся упразднить скелет. Вообще были сфабрикованы новые органы, скажем, гульбоны и шлямсии. Прежние гастрономические и сексуальные утехи по сравнению с гульбонством и шлямсованием было чем-то в роде ковыряния в носу.
Аморальность новых биотехнологий шокировала даже неверующих, ведь при помощи, скажем, клонирования удавалось создавать совершенно безмозглых, способных лишь к механическому труду людей. Можно было также выстилать тканями, полученными из человеческого тела, полы и потолки, "изготовлять вилки, разъемы, усилители и ослабители разумности" и тому подобные странные вещи. Ужасы сулящего Бог знает что, стремительного движения понимали даже те, кто не верил ни в какого Бога. Однако остановить "прогресс" уже не представлялось возможным.
"Образ" Божий, по крайней мере ее телесная составляющая все более и более размывался новыми реалиями. И стоило "подремонтировать догмат очередным толкованием" как появлялось что-нибудь новенькое. Если говорить о телесном беспределе, дела зашли настолько далеко, что пришлось даже ввести на некоторое время диктатуру для унификации человеческого тела, чтобы как-то ограничить анархию на чисто физическом уровне.
Но гораздо хуже было то, что возникли технологии, затрагивающие запутанную и тягостную проблему связи тела и духа - предмет второй биотической революции. Были открыты технологии "фригидации", "реверсирования" и "духотворения".
Технология "фригидации" была теологически не слишком проблемной. Она предполагала превращение человека в ледышку. И, конечно, сразу возник вопрос - что при этом происходит с бессмертной душой человека? По крайней мере своего существования в период фригидации люди вспомнить никак не могли.
Некоторые богословы полагали, что смерть и отправление души в райские обители происходят лишь после распадения тела на атомы. Поэтому вызовом религии стало обнаружение "ресурекционного поля", способного составлять распавшиеся атомы умершего человека в тело, и опять же человек упорно не помнил ничего из своего посмертного существования. Догмат о бессмертии души спасли при помощи уловки - памяти нет, значит, душа еще не отлетела в рай, ведь этот момент в Писании никак специально не оговорен.
Позднее удалось довести дело до логического конца и разработать технологию "реверсирования", то есть не только воскрешать людей, но также поворачивать онтогенез – процесс развития - вспять. Проблема состояла в том, что реверсирование достигало конечного пункта - разделения зиготы на яйцеклетку и сперматозоид. И опять теологов замучил вопрос - что происходит с душой, которую помещает Господь в оплодотворенную яйцеклетку?
Однако самым страшным вызовом стала технология "духотворения" - формирования сознания искусственными средствами. Простейшая вещь - создание "разумных" киберов. С проблемой наличия духа в машине еще как-то справились, однако на смену ей пришла проблема "жидкостного сознания" – появления разумных растворов. Более того, стало возможным искусственное созидание не только аморфной души, но личности – "персонетика". Настоятель ордена деструкцианцев отце Дарг сообщил Ийону:
"Благодаря персонетике появилась возможность изготавливать миры, замкнутые в машинах, в которых возникало разумное бытие, а оно в свою очередь, в этом узилище могло конструировать следующее поколение разумных субъектов, разум можно было усиливать, делить, умножать, редуцировать, обращать вспять и так далее".
Относительно того, может ли раствор или машина иметь "разумную душу" шли жаркие дебаты на одном из Соборов. В результате был принят догмат о Косвенном Сотворении – способности тварью зачинать разум "второй волны" - "духотворить". Однако духовная анархия на Дихтонии продолжались. Поскольку богословская мысль не поспевает за прогрессом, на одном из Соборов было принято решение о создании монашеского ордена прогнозистов. Однако проблемы этим не были решены.
Увы, теперь даже искусственный интеллект мог из кучки праха состряпать разумное существо. Стало легким превращение атеиста в святого, аскета в беспутника, круглого дурака в мудреца. Оказалось возможным создавать также "мистическое парение духа в компьютере или растворе", "превращение лягушачьи икринки в мудреца" и тому подобные странные вещи. Отец-настоятель бесстрастно резюмировал сомнительные достижения дихтонской цивилизации:
"Даже ребенок может сегодня воскресить умершего, вдохнуть дух в прах, возжигать солнца, поскольку есть необходимые для этого технологии, а то, что не каждый имеет к ним доступ, как ты понимаешь, не представляет интереса для богослова. Предел возможностей сотворения, заданных буквой Писания, достигнут и, следовательно, упразднен. На смену кошмарам прежних ограничений пришел кошмар их отсутствия".
Произошло в конце концов вот что - поскольку при помощи биохимии и технологий удалось имитировать всяческие проявления духовности, наступило повальное религиозное охлаждение. Дихтонцы "утратили веру – как раз потому, что могут ее гасить и возжигать в себе словно лампу". Обо всем этом с грустью поведал Ийону Тихому старый, мудрый компьютер, настоятель ордена деструкцианцев отец Дарг.
И все же вера не исчезла совсем, ее угасающий огонь был подхвачен… искусственным интеллектом. Но даже у компьютеров вера приобрела очень скептичные, модернистские очертания, возможно свойственные последнему поколению дихтонцев. Об этой теологии Ийону Тихому поведал за обедом генерал ордена прогнозистов отец Мемнар, имеющий вид компьютера кубической формы на тележке. Как заметил отец Мемнар, проблема религии состояла в объективных трудностях совмещения буквы Писания со стремительно меняющимся миром, в усталости от усилий по модернизации, в необходимости создавать все более абстрактные образы Бога:
"Разум сооружает одну за другой различные модели Бога, каждую следующую считая единственно верной… Догматы кажутся вечными лишь в начале пути в цивилизованную даль. Сперва воображали Бога суровым Отцом, потом Пастырем-Селекционером, затем Художником, влюбленным в Творение; а людям оставалось играть соответственно роли послушных детишек, кротких овечек и, наконец, бешено аплодирующих господних клакеров. Но ребячеством было бы думать, будто Творец творил для того, чтобы творение с утра до вечера заискивало перед ним, чтобы его навырост обожали за то, что будет Там, коли не по сердцу то, что делается Здесь, - словно бы он был виртуозом, который взамен на истовое бисирование молитв готовит вечное бисирование жития после земного спектакля, словно свой лучший номер он пренебрег на потом, когда опустится гробовой занавес. Эта театральная версия теодицеи для нас - далекое прошлое… Представление о небесах как о щедром кассире и о пекле как долговой яме для неплатежеспособных должников - не долгое заблуждение в истории веры… Меняется Церковь и меняется вера; ибо и та и другая пребывают в истории".
Столь же проблемной стала сама вера человека. Отец Мемнар продолжал:
"Вера абсолютно необходима и вместе с тем совершенно невозможна. Невозможна в том смысле, что нельзя утвердиться в ней навечно, ибо нет такого догмата, в котором мысль может укорениться с уверенностью, что это навсегда. Двадцать пять столетий мы защищали Писание при помощи тактики гибкого отступления, все более окольной интерпретации его буквы, но в конце концов проиграли. Нет у нас больше бухгалтерского видения трансценденции, Бог - уже не Тиран, не Пастырь, не Художник, не Полицейский и не Главный Счетовод Бытия. Вера в Бога должна отречься от всякой корысти, хотя бы потому, что никакого воздаяния за нее не будет… За свою веру мы не требуем от Бога никаких льгот, не адресуем претензий, ибо похоронили теодицею, основанную на принципе торговой сделки и обмена услугами: я призвал тебя к жизни, а ты будешь служить мне и восхвалять меня…
Она, эта вера наша… как бы тебе объяснить… совершенно нага и совершенно беззащитна. Мы не питаем никаких надежд, ничего не требуем, ни о чем не просим, ни на что не рассчитываем, - мы просто верим… Прошу, не задавай мне новых вопросов, но лучше подумай, что означает такая вера. Если кто-то верит по таким-то причинам и поводам, его вера уже не полностью суверенна… Я ничего не знаю о том, что есть Бог, и потому могу только верить. Что мне дает эта вера? Согласно прежним понятиям - ничего. Это уже не утешительница, отвлекающая от мыслей о небытии и не господня кокетка, повисшая на дверной ручке райских врат, между страхом перед осуждением и надеждой на рай. Она не умиротворяет разум, бьющийся о противоречия бытия, не обшивает ватой его углы; говорю тебе: толку от нее никакого! Или иначе: она ничему не служит… Нашу веру нельзя назвать ни молитвенной, ни благодарственной, ни смиренной, ни дерзновенной, она попросту есть, и больше о ней ничего сказать нельзя".
Настоятель ордена отец Дарг свои размышления резюмировал так: "Дуизм – это "надвое бабка гадала". Бог тайна до такой степени, что нельзя быть совершенно уверенным даже в самом Его бытии". Бог - вечное "не", опрокидывающее в том числе все наши представления о бытии как таковом. "Дистиллированная" вера в Бога, в Бога "без качеств" все ближе скатывалась к вести, когда-то провозглашенной у нас Фридрихом Ницше - "Бог умер". Об этом сообщил Ийону уже отец Мемнар:
"Уровень абстракции становится все выше и выше: заметь, что дистанция между Богом и разумом с течением времени возрастает – везде и всегда!.. Абстрагирование достигает вершины, на которой объявляют о смерти Бога, взамен обретая стальной, леденящий и жутковатый покой, становящийся уделом живых, навсегда оставленных теми, кого они любили больше всего".
И все же это не полный отказ от Бога - "дуизм пошел еще дальше; в нем ты веруешь, сомневаясь, и сомневаешься, веруя; но и это состояние не может быть окончательным".
Концепции дихтонцев и их компьютеров все яснее принимали очертания "теологии смерти Бога", родившейся в протестантизме после Второй Мировой Войны. Может быть, это грубо и прямолинейно, однако сообщенное монахами-роботами вызывает живые ассоциации с идеями, которые можно найти, скажем, у Г.Кокса и Г.Ваханяна - авторов соответственно двух известных книг – "Секулярный город" (1965) и "Смерть Бога" (1966). В последней из них с особой силой присутствует понимание крушения традиционных концепций Бога. Сам Ваханян, однако, надеялся на возрождение христианства. "Смерть Бога" для него - лишь метафора, способ обозначить распадение традиции, из которого все же родится что-то новое.
Однако такая возможность едва ли казалась осуществимой дихтонцам. Что же тогда оставалось делать верующему, пусть даже роботу, обретшему веру в Бога? Может быть, все же распространять свою странную веру?
Как заметил настоятель отец Дарг, "на Дихтонии возможен миллион вещей, о которых ты и не подозреваешь". Приемы биохимического воздействия и "техногенных крестовых походов", оружием которых стало не слово проповедника и даже не меч, а технология создания веры показались Ийону Тихому ужасом - откровенной манипуляцией сознания. Однако в мире, где уже давно потеряно различие между естественным и искусственным, подобные ужасы, увы, были бы совершенно неуместны. Кроме того, все ведь имело предысторию. В самом деле, убеждая другого человека в богословском диспуте, разве мы не переставляем элементы его сознания, не программируем противника определенным образом?
Отец-настоятель с грустью поведал Ийону Тихому о богословском диспуте между членом его ордена и компьютером-атеистом, обладавшим более обширным программным обеспечением. Монах был мгновенно перепрограммирован и потерял веру. И если бы речь здесь шла лишь о прямом насилии, оно должно было быть отвергнуто, но это скорее была ситуация шахматного матча, в котором второй, более сильный противник не только хорошо играет, но еще и видит мысленные ходы противника. Наличие информации – это еще не насилие над соперником в споре.
Технологии открывают новые возможности миссионерства и не всегда этичные. Может быть, потому отец Мемнар признался – "тиражирование богомольцев было бы для нас бесцельным посмешищем". В принципе можно было бы начать войну с неверием на планете, но проблема здесь не только в неравном соотношении сил. Втянувшись в "эту гонку богословских, сакрально-антисакральных вооружений" пришлось бы всю жизнь посвятить войне, "превратив монастыри в кузницы все более действенных средств и приемов, внушающих алкание веры".
Для цивилизации наверху возглас робота "верую"– побочный продукт прогресса. "Мы получили свободу мысли, потому что промышленность, для которой нас предназначили, требовала именно этого". Терпимость властей по отношению к религии компьютеров могла также быть просто укоренившимся обычаем, тем не менее даже такая свобода роботов все же была способна показаться властям подозрительной:
"Вера – единственное чего нельзя отнять у сознающего существа до тех пор, пока оно сознательно пребывает в вере. Власти могли бы не только сокрушить нас, но и так переделать, чтобы перепрограммированием лишить нас возможности верить; они не делают этого, должно быть, из презрения к нам, а может, из равнодушия. Они жаждут явного, открытого господства, и любое отступление от него сочли бы своим умалением. Вот почему мы должны скрывать нашу веру".
Отец-настоятель в качестве секрета рассказал Ийону Тихому также об открытии, которое сделала "братия одного из отдаленных монастырей" - они смогли найти верный способ обратить в веру кого угодно. При этом речь вовсе не шла о лишении человека свободы, открытие это можно уподобить руке, поворачивающей голову, а также голосу, произносящего слово: "смотри!" Но… единственное, что осталось у роботов от той, старой веры было преодоление искушения воспользоваться своим миссионерским всемогуществом, уважение к свободе выбора существ.
Компьютер отец Дарг также поведал Ийону Тихому о своей догадке – о существовании жителей далеких миров, которые, не выдерживая "ужасного молчания Бога", пытались вынудить Его проронить хотя бы одно слово, угрожая в противном случае совершить "космоцид" - уничтожить Вселенную, стянув ее в одну точку.
Быть может, в шоке от всего услышанного, "видя бесплодность дальнейшего пребывания на этой планете", Ийон Тихий решает как можно быстрее покинуть Дихтонию. Слава Богу, ракета его осталась в целости-сохранности. После грустного и трогательного прощания с отцом-настоятелем Ийон Тихий стартует в звездные дали.
Эта "сказка" была написана Лемом в 1976 году. Однако на дворе уже XXI век, и все же "сказка" Станислава Лема продолжает читаться с глубоким интересом. Элементарные ассоциации - угасшие дебаты относительно природы искусственного интеллекта, вопросы биоэтики и "технологии" миссионерства, теология "смерти Бога", проблема совмещения догматов с новыми реалиями. Автор "сказки" атеист, который, казалось бы, не должен особо сожалеть об утрате религиозных "иллюзий", и в тексте есть прямые насмешки над религией, и все же "сказка" способна вызывать также ностальгию по прежнему привычному миру.
И здесь стоит прежде всего обратить внимание на проблему сохранения традиционной религиозности в условиях стремительного прогресса науки и техники, меняющего и человека, и среду его обитания. Можно было бы подумать, что истины, провозглашенные когда-то простым жителям Иудеи, рыбакам и пастухам, уже неприемлемы для обитателей урбанизированного, технократичного мира. В наше столетие возникли новые религиозные движения, основанные на абстрактной духовности и мистицизме, не связанные с историческими событиями, совершившимися на Голгофе. И все же традиционное христианство вовсе не угасло, как ожидали многие. Оно по-прежнему живет в мире, который все же называют постхристианским, и это свидетельствует о том, что христианство имеет предпосылки в самой структуре человека. Не один раз делались прогнозы о вытеснении нашей религии наукой и технологиями, подобный исход предрекали, например, в конце XIX века и во второй половине XX века, однако в 70-е годы вновь произошло оживление христианства. И сегодня ситуация оказывается пестрой и неоднозначной. В Европе храмы пустеют, но вера не уходит вовсе. Как реакция на существование церковного официоза, она становится приватной, объединяя неформальные группы.
Если говорить о Европе, в опросах зафиксировано оживление религиозности у молодежи, скажем, в Италии и Франции. В христианство обращаются также эмигранты Третьего мира, которые не хотят замыкаться в узких пределах этнических общин. Слухи о кончине христианства по-прежнему сильно преувеличены. Религия, судя по всему, вообще является неизбежным элементом человеческой жизни, в человеке действительно живут неподвластные техническим изменениям предпосылки религии. Я попытаюсь перечислить их.
Одна из предпосылок – ограниченность познавательных способностей человека. В романе Станиславе Лема "Солярис" символом непознаваемости реальности является не поддающийся человеческому пониманию Океан далекой планеты, а за гранью познаваемости может скрываться в том числе традиционный Бог. По выражению Макса Вебера наука "расколдовала" мир природы, но сегодня все яснее ощущается, что научное познание имеет свои границы, и оно не в состоянии угасить мистическое восприятие жизни, и удаление из жизни христианской мистики приводит лишь к распространению сомнительной поп-мистики.
Один из создателей "атеистического христианства" Дитрих Бонхоффер полагал, что по мере развития человек становится "совершеннолетним", способным без прямой помощи Бога решать свои практические проблемы. Такая точка зрения сегодня все больше обнаруживает свою сомнительность. Техника, ослабляя зависимость от природы, создает новые проблемы, в том числе экологические и социальные. Заблудиться в технических джунглях столь же просто, как и в джунглях реальных. Человек по-прежнему слаб и в обыденной жизни всегда нуждается в Помощнике.
Необходимость в Боге рождается также экзистенциальными проблемами, осознанием своей конечности и смертности. В книге "Черты будущего" (М., 1966) фантаст и астроном Артур Кларк предсказал порядок решения наукой проблем цивилизации, в частности, там утверждается, что с проблемой смерти науке удастся справиться к 2010 году. Однако до сих пор перед проблемой смерти часто пасуют не только медики, но и очень изобретательные фантасты. В "сказке" Лема над проблемой бессмертия трудилась целая плеяда ученых-дихтонцев, но все их усилия оказались тщетными. В принципе можно было бы построить агрегат, который "охраняя организм человека, собирал любую крупицу информации, теряемой клетками". Проблема в "сказке" Лема состояла в том числе в колоссальных размерах этого устройства. Второй "бессмертник" Дихтонии был способен передвигаться только в сопровождении колонны тракторов, навьюченных обессмерчивающей аппаратурой. В результате он впал в отчаяние и покончил жизнь самоубийством. В конце концов дихтонцы пришли к выводу, что "барьер Смертности невозможно преодолеть, если не освободиться от данного Природой тела".
Атеисты выводят страх смерти из биологической матрицы человека - он страшится угроз своей жизни, чтобы выжить, а страх перед неизбежным концом является всего лишь побочным продуктом способности заглядывать в будущее. Осознание этой перспективы способно породить привыкание и цинизм, оно может также подтолкнуть к изобретению религий. Можно попытаться свести религию к производной страха перед смертью, но такая оценка будет явно не верной. Религия укоренена не только в страхе перед небытием, но также в положительных основаниях – мистическом опыте, морали и красоте. Иммануил Кант когда-то сказал, что о Боге нам говорит звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. Красота, добро, любовь и грех – это вечные понятия, и если не ограничиваться узкой областью освоенного человеческим сознанием, эти понятия могут сложиться в образ бесконечного Бога, воплощения красоты и всемогущества, Личности, способной прощать грехи.
Потребность в Боге никуда не исчезает, более того, существует потребность именно в традиционном Боге Библии. Можно реформировать идею Бога до бесконечности, как это делали дихтонцы в "сказке" Лема, но на самом деле человеку в условиях меняющегося мира нужен якорь, традиция, остров стабильности, который и дает ему вечный Текст, свидетельствующий о грехопадении, искуплении и воскресении - о вещах уместных во всяком техническом окружении.
Высказывания Лема в адрес религии как таковой вполне конкретны, тем не менее, обсуждая человеческие проблемы ему тоже было трудно избежать их религиозного измерения. Может быть, именно поэтому тема религии время от времени и достаточно неожиданно появляется в книгах Лема. Фильм Андрея Тарковского "Солярис" заканчивается сценой-аллюзией на известную библейскую притчу о блудной сыне. Сам Лем, кажется, был раздражен такой экранизацией его романа. Кельвин согласно тексту романа остается на станции не по тем причинам, которые обозначил в своем фильме Тарковский. Тем не менее, религиозный подтекст при желании можно ощутить в этом романе, что очевидным образом проявилось в известном диалоге между Кельвином и Снаутом. Я приведу этот диалог без комментариев. Но прежде, хотелось бы обратить внимание на одну, сегодня уже второстепенную деталь - в первых переводах романа у нас эти рассуждения стали жертвой атеистического рефлекса - они были стыдливо вырезаны советской цензурой, несмотря на всю еретичность разговоров героев. Первый полный текст романа появился у нас лишь в 1976 году, и я приведу взятый оттуда и несколько сокращенный вариант диалога. Кельвин вопрошает Снаута:
"- Скажи мне… ты… веришь в Бога?
Снаут проницательно посмотрел на меня.
- Что? Кто сейчас верит…
- Это все не так просто, - начал я беспечным тоном. – Ведь меня интересует не традиционный земной Бог. Я не разбираюсь в религиях и, может, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера в Бога слабого, в Бога-неудачника?
- Неудачника? - удивился Снаут. - Как ты это понимаешь? В каком-то смысле Бог каждой религии был слабым, ведь его наделяли человеческими чертами, только преувеличенными. Бог Ветхого Завета, например, был вспыльчивым, жаждал преклонения и жертв, завидовал другим богам…
- Нет, - прервал я его, - я имею в виду Бога, несовершенство которого не связано с простодушием людей, сотворивших его, его несовершенство - основная имманентная черта. Это Бог, ограниченный в своем всеведении, всесилии, он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний… Это Бог… калека, который всегда жаждет большего, чем может, и не сразу понимает это. Бог, который изобрел часы, а не время, что они отчитывают, изобрел системы или механизмы, служащие определенным целям, а они переросли эти цели и изменили им… Этот Бог не существует вне материи и не может от нее избавиться, а лишь этого жаждет…
- Подобной религии я не знаю, - сказал Снаут, помолчав. - Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, а боюсь, что понял правильно, ты думаешь о каком-то эволюционирующем Боге, который развивается во времени, и растет, возносясь на все более высокий уровни развития, дорастая до сознания своего бессилия! Этот твой Бог - существо, для которого его божественность стала безвыходным положением, поняв это, Бог впал в отчаяние. Но ведь отчаявшийся Бог - это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека…
- Нет, - ответил я упрямо, - я не имею в виду человека. Возможно, некоторые черты моего Бога соответствовали бы такому предварительному определению, но лишь потому, что оно далеко не полно. Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Ее навязывает ему время, в которое он родился. Человек служит этим целям или восстает против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Полная свобода цели возможна, если человек окажется совсем один, но это не реально… Этот… мой Бог - существо, лишенное множественного числа, понимаешь?
- Ах, - сказал Снаут, - как это я сразу…
Он показал рукой на Океан.
- Нет, возразил я, - и не он…
- А может, именно Солярис - колыбель твоего божественного Младенца, - заметил Снаут… Откуда ты взял идею несовершенного Бога?
- Не знаю. Она мне показалась глубоко верной. Это единственный Бог, в которого я мог бы поверить. Его мука – не искупление, она никого не избавляет, ничему не служит, она просто есть".
Мне трудно комментировать этот диалог, я просто хотел бы обратить внимание на то, что роман вполне удался бы и без него, и все же Станислав Лем посчитал нужным включить его в свой текст.

